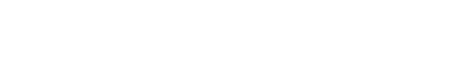Дальний Восток остается самым сложным и одним из самых значимых макрорегионов России. Эти территории очень богаты природными ресурсами, но осваивать их непросто: нужны люди, инвестиции, технологии, инфраструктура. А в последние годы именно Дальний Восток стал ключевым каналом внешней торговли: основные потоки экспорта и импорта переместились с запада страны на БАМ, Транссиб, в порты Приморья и Хабаровского края, на Северный морской путь.
Государство уже давно крайне внимательно следит за состоянием дел в восточных регионах. С 2012 г. в структуре правительства есть отдельное ведомство, курирующее эти территории, – Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, которое фактически управляет большей частью территории Российской Федерации. Дальневосточный федеральный округ является единственным, где полпред президента Юрий Трутнев входит в правительство в ранге вице-премьера. Правительство регулярно вводило разнообразные льготы для населения и бизнеса на Дальнем Востоке – от территорий опережающего развития до фиксированных тарифов на авиабилеты.
В преддверии юбилейного, 10-го, Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2025 г., «Ведомости» поговорили с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым о некоторых особенностях современного состояния макрорегиона – о ГЧП, ТОР, СМП, ДПМ, АЭС, ГОК и даже о РИФ – русском источнике фотонов, установке класса «мегасайенс», которая будет создана в Приморском крае.
– Начиная с первого форума в 2015 г. ВЭФ сразу стал одним из главных событий делового календаря года. Считаю, что главная заслуга здесь, безусловно, президента, который неизменно приезжал на все форумы и обеспечивал участие и лидеров государств, и лидеров бизнеса из разных стран. Исторически многочисленной у нас была делегация из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В первые пять лет на ВЭФ приезжали ключевые руководители Кореи, Японии. Конечно, никто не ожидал, что половину времени мы проведем в режиме пандемии и в режиме беспрецедентных геополитических разломов. Трансформировалась международная повестка.
ВЭФ сразу стал очень серьезной площадкой, сопоставимой с Петербургским международным экономическим форумом, – но с четким фокусом на восточный вектор развития. Если говорить про эти прошедшие 10 лет, многие из тех планов и перспектив, которые обсуждались на первом ВЭФе, стали фактами к десятому. Например, в 2015 г. на ВЭФе был подписан меморандум о намерениях о выделении квоты газа «Газпрома» на Находкинский завод минеральных удобрений. Сейчас завод практически достроен.
ВЭФ выполнил миссию, которая на него была возложена: содействовать развитию Дальнего Востока как геостратегического региона.
Мы анализировали вместе с Юрием Петровичем (Трутневым, вице-премьером – полпредом президента) ситуацию буквально по каждому из регионов Дальнего Востока – которых, кстати, тогда было девять, сейчас одиннадцать (в 2018 г. присоединились Бурятия и Забайкалье). Практически везде обновлены аэропорты, запущены предприятия, которые не запускались десятилетиями. Удокан, например, был открыт в 1947 г., Баимка в 1979-м. Сейчас Удокан уже работает, Баимка строится. Начато производство на Малмыже.
– На протяжении всех этих 10 форумов, и форум 2025 г. не исключение, тема кадров звучит отдельным треком. Как адаптировать планы развития макрорегиона под решение кадрового вызова?
– Дальний Восток был и остается делом молодых. Не обязательно молодых по возрасту. На протяжении почти десятилетия у нас на Дальний Восток был стабильно позитивный приток молодежи в возрасте 20–24 лет. Выпускники ехали работать: это и есть производная от создания новых предприятий, которые платят более высокие зарплаты, предоставляют современные условия работы, жизни.
Люди хотят ассоциироваться с большим делом, мечтой, которую они реализуют. И мегапроекты Дальнего Востока дают дух причастности к чему-то, чем будешь гордиться всю жизнь. Космодром «Восточный», судоверфь «Звезда», газоперерабатывающий и газохимический комплексы в Амурской области: быстрый путь от чистого поля до огромного предприятия мирового уровня. Дух захватывает! Это и привлекательные условия труда: заработные платы у наших резидентов ТОР на 53% выше, чем в среднем по России. Молодые работники в первую очередь едут работать на новые предприятия.
Родился 3 октября 1980 г. в Минске. Окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России и магистратуру по специальности «государственное и муниципальное управление» Дальневосточного федерального университета
2001–2011 гг.
работал на руководящих должностях в секторе прямых инвестиций в России. Управлял крупными проектами международных и российских финансовых организаций, в том числе на территории Дальнего Востока – в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае
2011–2013 гг.
участвовал в создании, занимал должность директора, члена правления и члена инвестиционного комитета Российского фонда прямых инвестиций. Отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-китайского инвестиционного фонда совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC)
2014–2020 гг.
генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (Группа ВЭБ.РФ)
2015–2019 гг.
входил в набсовет ПАО «Алроса»
10 ноября 2020 г.
указом президента Российской Федерации назначен министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
Следующая волна – это приток абитуриентов из других регионов в вузы Дальнего Востока. У нас за год в три раза увеличился приток первокурсников. Раньше люди уезжали и половина оттока приходилась на абитуриентов. Сейчас у нас уже 10% первокурсников – ребята из других регионов, а было 3%.
Мы с ведущими университетами Дальнего Востока сформировали стратегические программы развития, каждый фокусируется на некоей перспективной рыночной нише. Например, Забайкальский университет – это горнорудное дело. Дальневосточный федеральный университет – мощнейший факультет микробиологии. В Бурятии – традиционные лекарственные травы и агротехнологии.
Еще одно направление (для решения кадровой проблемы) – технологии. Совместно с компанией Cognitive Pilot создаем на Дальнем Востоке первый в России и один из первых в мире агротехнопарков, состоящий из беспилотных сельскохозяйственных роботов. Там даже не предусмотрена кабина: это машины, которые без привязки к спутнику будут работать в полях.
Корпорация развития Дальнего Востока сопровождает 3000 проектов общим объемом 11 трлн руб. И самые большие предприятия редко предполагают создание более 1000 рабочих мест. Эти рабочие места более производительные. То есть у них более высокие зарплаты, они требуют более высокой квалификации.
– Вы упомянули обучение, вы упомянули интересные проекты и упомянули новые технологии. Но не работой единой. В одном из своих интервью вы сказали, что нужно создавать такие условия, чтобы человеку было там жить в кайф. Как государство формирует эти условия жизни?
– Этот вопрос мы задаем и сами себе, и людям в рамках социологических исследований. Из шести основных тем, которые поднимали жители Дальнего Востока в качестве наиболее волнующих с 2015 по 2025 г., острота проблем до полутора раз снизилась по таким направлениям, как здравоохранение, образование, культура, комфортная городская среда.
На вопрос, как сделать условия для жизни на Дальнем Востоке лучше, чем были раньше, и вообще лучше, чем в других местах, мы постарались дать ответ программой мастер-планов, которую инициировал президент. Дальний Восток был первым макрорегионом в России, где мастер-планы были задуманы, разработаны и уже три года реализуются. Фактически у нас на 20% работа выполнена. Из 875 объектов, предусмотренных мастер-планами всех 25 городов, вошедших в программу, уже порядка 160 созданы.
Также важнейший аспект – это жилье. На старте работы, во время первого ВЭФа, Дальний Восток отличался от всей России значительно более низким объемом строительства на душу населения, более высокой стоимостью квадратного метра (на 15% дороже, чем в среднем по стране). Благодаря программе «Дальневосточная ипотека», которая была первой флагманской льготной ипотечной программой страны, у нас в три раза вырос объем жилищного строительства за пять лет.
Впервые в апреле 2024 г. цена на метр на Дальнем Востоке сравнялась со среднероссийской, а сейчас на 12% ниже.
Еще один важный фактор – транспортная связность. По сравнению с советским временем по некоторым регионам интенсивность авиаперевозок снизилась в 10 раз и больше. В рыночных условиях обеспечить высокую авиаинтенсивность сложно. Но значительно повысить, особенно востребованные маршруты, – можно. Мы сделали это, создав единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора» и существенно расширив маршрутную сеть. Практически все регионы открыли новые аэропорты: Владивосток, Хабаровск, Магадан, Южно-Сахалинск, Камчатка, и в этом году открывается Благовещенск, Игнатьево.
– Вы сказали про связность, она зависит от двух факторов. Инфраструктура и, конечно, самолеты. Можем ли решить стоящие здесь вызовы и когда мы получим «Байкал»?
– Стратегия единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» построена на использовании отечественной авиатехники: «Байкал», Ил-114, Superjet, МС-21. Есть соглашения о поставке более 100 воздушных судов. На этом построена вся стратегия развития компании до 2030 г. Рассчитываем, что промышленность в этом смысле нас не подведет.
– Вы говорили про преференциальные режимы. С вашей точки зрения, каковы главные вызовы и возможности их развития?
– Системе ТОР и префрежимов для развития Дальнего Востока уже 10 лет. Это не только налоговые льготы, но и управленческая система, которая должна делать бизнес более удобным и быстрым. КРДВ является титульным институтом развития и управляющей компанией префрежимов. Тысячи предприятий получили подключение к электричеству, к сетям водоснабжения, газоснабжения.
Но за 10 лет мы видим, что возникают новые вызовы, которые требуют донастройки, а где-то перенастройки этого режима. Поэтому мы выходим с инициативой – рассчитываем, что она будет обсуждена и принята на ВЭФе, – об объединении различных преференциальных режимов в единый режим, который весь Дальний Восток сделает единой территорией опережающего развития.
Сейчас префрежим ТОР предполагает выделение определенного участка земли с географическими координатами, кадастровым номером, согласование его путем постановления правительства. И вот на предприятия, физически находящиеся на этом участке земли, распространяется режим ТОР.
Мы считаем, это не совсем правильно. И предлагаем ввести единый префрежим на всем Дальнем Востоке: от Байкала до Курильских островов. И внутри этой, условно говоря, супер-ТОР, предложить инвесторам широкое меню конкретных механизмов поддержки проектов – в зависимости от отраслевых приоритетов и рыночных циклов в тех или иных секторах.
– Что-то похожее на фабрику проектного финансирования ВЭБа?
– Совершенно верно. Например, сейчас в приоритете технологические проекты. Требуется быстрое внедрение технологий – та самая роботизация, автоматизация, технологии искусственного интеллекта. Поэтому максимальная преференция к технологическим проектам может стать одним из принципов такого супер-ТОРа.
Никакого бюджета не хватит всех освобождать от налогов и соинвестировать в инфраструктуру для проектов, которые оцениваются в сотни миллиардов, а то и триллионы рублей. Новый супер-ТОР должен помочь нам сфокусированно толкнуть вперед важные для нас отрасли, не теряя свои естественные преимущества.
Например, только ленивые не отмечают, что Дальний Восток и Арктика – это супертерритории для туризма. Но я, как в прошлом инвестор с 20-летним стажем, понимаю: бизнес, чтобы построить объект, должен в 2–3 раза дороже заплатить CAPEX (капитальных инвестиций). А работаешь ты 5–6 месяцев в году. Поэтому без сбалансированной государственной поддержки крупные проекты в этой отрасли, как говорится, «не летят».
Для развития туризма нужны разумные меры поддержки, льготы, которые помогали бы сгладить сезонность этого бизнеса. Кроме того, оправданно участие государства в создании инфраструктуры: подъемников для горнолыжных курортов, инфраструктуры очистки воды, энергоснабжении.
В Приморье есть одно из самых красивых мест в стране, а значит, и в мире – Хасанский район. Это субтропик, широта Сочи, граница трех стран – Россия, Китай и Северная Корея. Одна из приоритетных задач на ближайшие годы – комплексное развитие территории, подведение инфраструктуры, создание курорта современного уровня.
– В архитектуре предстоящего форума есть сессия, которая называется «Дальний Восток – 2036. Стратегия процветания». С вашей точки зрения, какие принципы должны лежать в основе этой стратегии?
– Должно сработать два ключевых фактора, которые делают Дальний Восток особенным, – это география и ресурсы. География открывает возможности для взаимодействия с соседями по АТР, с Китаем в первую очередь. Я верю, что и с Кореей, с Японией взаимодействие восстановится и выйдет на достойный уровень. Многие годы этого не получалось из-за неготовности дальневосточной экономики: в советское время она была закрытой. Мы на Дальнем Востоке держали дивизии Советской армии и обеспечивали транзит. В меньшей степени были рассчитаны на экономическое взаимодействие.
Сейчас активно открываются новые погранпереходы, при них формируются индустриальные парки, зоны промышленного развития, торговли. И наши предприниматели готовы на взаимовыгодных условиях реализовывать совместные проекты с азиатскими партнерами. География обязана сработать, в том числе в технологиях, потому что многие технологии нужно привозить из того же Китая и локализовать у нас. Ну и, конечно, в туризме.
В том, что касается ресурсного потенциала, то до Дальнего Востока в советское время толком не успели добраться. Мы сейчас вводим в оборот ресурсы, разведанные в то время: сотни качественных, хороших месторождений. Тем более что сейчас, как это ни парадоксально, в мире искусственного интеллекта и цифровизации растет спрос на физические ресурсы: медь, золото, редкоземельные металлы. Я думаю, к 2036 г. мы увидим по этим направлениям взаимодействие с соседями, развитие крупных ресурсных проектов.
– Государственно-частное партнерство (ГЧП). В этом году впервые эта тема выделена в отдельный дискуссионный трек в рамках форума. С чем это связано?
– Я думаю, достигнута некая критическая масса опыта как хорошего, так и болезненного, который подводит нас к тому, чтобы начать по-новому использовать этот важнейший механизм для развития. По сути, что такое ГЧП? ГЧП – это долговой механизм, который позволяет создать объект за будущие доходы, расплатиться за него из будущих бюджетных поступлений.
На старте где-то этим механизмом злоупотребили, потому что долг – это лукавый инструмент, им хочется воспользоваться, в любом случае зажмурившись. Расплачиваться приходится потом; некоторые бюджеты перегрузились от этого, не все объекты построены по самым высоким стандартам. Но, безусловно, мы видим рост квалификации участников этого процесса, концессионеры и заказчики становятся профессиональнее. В ГЧП две стороны, и зачастую частная сторона была более квалифицирована, чем государственная, и из-за этого бывали казусы.
Включение таких институтов развития, как ВЭБ.РФ, как КРДВ в процесс реализации проектов ГЧП, позволяет их балансировать, сделать более прозрачными. Для государства должны быть прозрачные условия: что оно получает взамен того, что принимает на себя длинные – по 10 лет и больше – обязательства. Мы активно использовали этот инструмент и в Дальневосточной концессии, и в рамках реализации мастер-планов, и в рамках реализации крупнейших инвестпроектов. В первую очередь, ГЧП предлагается для создания инфраструктуры.
Конечно, определенные торможения в этом процессе создала макроэкономика последних пару лет с учетом процентной ставки. Но мы сейчас видим тренд на снижение ставки, на плавное замедление инфляции и рассчитываем, что уже с 2026 г. при выходе ставки на более приемлемый уровень количество проектов ГЧП кратно увеличится.
– В прошлом году президент, выступая на пленарном заседании ВЭФа, как раз говорил о том, что нужно перезапустить этот ГЧП. В частности, обозначил ВЭБ в качестве лидера направления, и буквально на днях стало известно, что он будет участвовать во всех проектах дороже 3 млрд руб. Стоит ли ожидать в рамках предстоящего форума какой-то новый виток развития в этом направлении?
– Мы тесно взаимодействуем с ВЭБом и рассчитываем, что их экспертиза позволит нам структурировать новый пакет проектов, чтобы реализовать мастер-планы. У нас стоит задача по 38 мастер-планам, включая Дальний Восток и Арктическую зону.
В масштабах страны предстоит подготовить 200 мастер-планов, для которых без инструментов ГЧП просто невозможно будет изыскать источники финансирования. Важно включать в эти процессы и рынок ценных бумаг. Поэтому здесь мы, конечно, планируем продолжать быть активными участниками вместе с ВЭБом.
– Владивостокская кольцевая автодорога в свое время планировалась в формате ГЧП. Сейчас проект приостановлен?
– Это дорогой проект, он посчитан. И я думаю, что как раз он ждет выравнивания макроэкономических условий для того, чтобы можно было к нему подойти, потому что при стоимости в несколько сотен миллиардов рублей и ставке 20% это не рабочий проект.
– Северный морской путь (СМП) недавно эволюционно трансформировался в Трансарктический транспортный коридор (ТТК). Как вы относитесь к этому изменению? Зачем это нужно было?
– Я бы разделял понятия. Севморпуть я считаю сакральным понятием. СМП – это легенда, которой 500 лет. Великий северный поход – это XVI в., 1525 год. Также СМП – это сталинский Главсевморпуть, это 1932 год. Я думаю, эту легенду ни в коем случае терять нельзя. Но она действительно несколько более узкая. СМП – про проходку во льдах, про навигацию, про ледоколы.
Трансарктический транспортный коридор – это современное, более прагматичное понятие. Включает в себя и реки, и железные дороги, в перспективе даже аэропорты, автодороги. То есть это целый комплекс логистики: и разные транспортные форматы, и транспортные узлы, и населенные пункты.
Оба понятия имеют право на существование. ТТК, повторюсь, – это более прикладной, утилитарный, современный термин, который правильно интегрирует весь комплекс сложной логистики. Для того чтобы товары между Мурманском и Владивостоком, а в перспективе Европы и Азии, максимально эффективно перевозились – как по морю, так и по рекам и по суше.
– Но мы видим, как сейчас меняется логистика в глобальном масштабе. Как обеспечить конкурентоспособность ТТК в современных реалиях?
– Конкурентоспособность достигается путем тренировок. Невозможно первым рейсом или первым образцом какого-то судна, первой проходкой сразу обеспечить конкурентоспособность.
Раскатав маршрут, ходя по нему регулярно и совершенствуя логистику, управленческие подходы, технологии, инвестируя в новые технологии, в новые транспортные средства, строя новый флот, мы снижаем удельную стоимость перевозки единиц и груза. Поэтому так важны и цели, которые ставятся по грузопотоку по СМП. Поэтому в рамках ТТК сейчас будет обсчитываться создание новой инфраструктуры, нового флота, в том числе дноуглубительного, и космос, и навигация, и железные дороги.
Эти связки станут конкурентоспособными и эффективными в результате постоянного, планомерного использования.
– 37,9 млн т составил в 2024 г. оборот по СМП. Как складывается конъюнктура в этом году?
– Конъюнктура складывается из тех товаров, которые производит бизнес. Это нефть, сжиженный природный газ, металлы, немного угля и контейнеров. Большой скачок будет, когда запустится «Востокойл». Мы ждем этого через год-два. Есть потенциал для увеличения перевозок у «Новатэка», у проекта «Арктик СПГ». Создается флот ледового класса, развивается космическая группировка – это дает возможность прогнозировать ледовую обстановку круглогодичную и более безопасно использовать СМП.
Конечно, на динамику грузопотока влияет геополитика. Но я уверен, что в районе 2030 г. мы достигнем целевого показателя в 100 млн т. Это та символическая граница, за которой понизится стоимость перевозки товаров по СМП. СМП, который мы имеем даже сегодня, он принципиально другой. Напомню, что в 2012 г. грузооборот СМП составлял всего 1 млн т.
– Если не ошибаюсь, рекорд Советского Союза – не больше 8.
– Да, 8 млн т. Мы уже значительно превысили тот рекорд. Мы, безусловно, мировой лидер по навигации во льдах. Сейчас эта тема довольно востребована во всем мире. Все видят риски других транспортных коридоров: Суэцкий канал – это вообще очевидный риск. Панамский тоже задели геополитические вибрации.
Таяние льдов является статистически зафиксированным фактором. Площадь ледового покрытия каждый год ставит новый антирекорд. Надо понимать, что лед на протяжении многих десятилетий будет сохраняться как важнейший фактор. Но возможность навигации с достаточной скоростью возрастает от года к году.
Поэтому высокий интерес к СМП проявляют крупнейшие морские торговые державы – такие, в частности, как Китай. И даже страны далекие от северов – такие как Индия. Они хотят иметь для себя альтернативный логистический маршрут.
– Если я правильно вас понял, у нас нет задачи форсировать достижение показателя в 100 млн т в год к условному 2028 году? По итогам 2025 и 2026 гг. мы увидим такую более плавную динамику роста?
– У нас действительно сейчас плавная динамика. И главная задача – это к моменту, когда наши крупнейшие проекты, такие как «Восток ойл», «Арктик-СПГ», Баимское месторождение, дадут товар, который нужно отгружать и везти по морю, чтобы у нас были ледоколы, которые могут его везти. А также создана вся береговая и навигационная инфраструктура для того, чтобы они могли безопасно двигаться по маршруту. Эта работа идет по плану – к 2030 г. мы сможем обеспечить порядка 100 млн т мощности перевозок по СМП.
– Если говорить про упомянутые энергетические проекты: не стоит ли подумать о трубопроводной инфраструктуре? Например, параллельно «Силе Сибири – 2»?
– Я думаю, это будет очень дорого. Морская логистика – самая дешевая. И СМП в перспективе дает совершенно другую себестоимость, чем трубопроводные мощности на такие расстояния.
– Баимский горно-обогатительный комбинат, с вашей точки зрения, когда сможет запуститься?
– Стройка идет, принято решение по проектному финансированию проекта. До 2030 г. ГОК должен запуститься.
– Довольно энергозатратный проект…
– Для Баимского месторождения создаются плавучие атомные электростанции – такие же, как «Академик Ломоносов». То есть это уже опробованная технология. Это вообще инновация мирового уровня. И сами плавучие атомные электростанции – это в перспективе востребованный рыночный продукт, в котором очень заинтересованы все страны мира, имеющие морское побережье.
– Для Дальнего Востока вопрос дополнительной генерации является важным.
– Да, мы оцениваем энергодефицит по уже принятым системным оператором заявкам минимум в 3,3 ГВт к 2030 г. Считаем, что реальная оценка ближе к 5 ГВт.
В Минэкономразвития подтвердили эту потребность. И сейчас вместе с Минэнерго мы будем вносить правки в план развития электроэнергетики Дальнего Востока. Он рассчитывается до 2042 г., но, конечно, первый этап должен быть реализован быстрее, с тем чтобы необходимые мощности были построены.
Хорошая новость в том, что энергетика Дальнего Востока развивается по нескольким векторам, в том числе по вектору ВИЭ: буквально недавно были отобраны проекты на размещение 1,7 ГВт установленной мощности на Дальнем Востоке. Солнце, ветер – это наше естественное преимущество. Надо помнить, Юг Дальнего Востока – это один из самых солнечных регионов, здесь до 300 солнечных дней в году.
Важным стратегическим решением стало поручение президента разместить новую большую АЭС на Дальнем Востоке. Безусловно, атомная энергия – это наша сила, традиционная для нашей экономики, нашей инженерной мысли. Я думаю, что в перспективе Приморье, может быть, и Хабаровский край могут получить мощные АЭС на 1 ГВт каждый.
И конечно, более долгосрочные проекты, но тоже важные для энергобаланса – это строительство гидроэлектростанций. У нас еще свыше 70% потенциала рек Дальнего Востока не использовано для того, чтобы получать такую экологичную долгосрочную электроэнергию. Там очень высокий CAPEX, но зато крайне низкий OPEX. А самое важное – эти электростанции играют защитную роль против паводков. С учетом того, что паводки на Дальнем Востоке происходят с высокой регулярностью, будем работать над тем, чтобы в план развития электроэнергии Дальнего Востока вошли сбалансированные источники энергии – и традиционные, и возобновляемые.
– ГЭС, понятно, скорее всего, будет строить «Русгидро», по атому тоже – «Росатом», а ВИЭ – «Хэвел», наверное?
– По ДПМ выходят и «Хэвел», и другие инвесторы. Сейчас это такая популярная тема, которая привлекает все больше новых инвесторов. Производитель «Хэвел» – один из ключевых.
– По поводу иностранных инвесторов, с вашей точки зрения, какие ниши в экономике Дальнего Востока и Арктики могли бы быть для них привлекательными, учитывая, опять же, сложившуюся ситуацию?
– Во-первых, очень хотел бы, чтобы мы не воспринимали иностранных инвесторов как самоцель. У нас достаточно ликвидная банковская система, у нас мощные корпорации, которые в состоянии произвести сами конкурентные продукты.
Поэтому здесь нужно подходить прагматично и брать иностранных инвесторов, которые, например, могут привнести технологии для быстрой локализации по тем нишам, которые у нас по тем или иным причинам недоразвиты. В послесоветское время ряд отраслей довольно серьезно перешел на импортозависимость. И вот сейчас модное слово «импортозамещение» – это реальное движение, и там можно кооперироваться.
Например, в Хабаровском крае планируем создание автобусного кластера, так называемый «Амурбас», где будем, начиная с уровня локализации порядка 40%, собирать автобусы с китайскими партнерами. В перспективе увеличим уровень локализации. Вот это хороший взаимовыгодный бизнес. Безусловно, Китай доказал свою компетенцию, и нам есть чему поучиться.
С точки зрения разработки крупных месторождений, я думаю, у нас одна из лучших школ в мире. Мы должны сами максимально осваивать, в том числе и производство, горнодобывающей техники. Пока она в основном импортируется. Но мы видим в последние три года интересные опыты по локализации экскаваторов и прочей тяжелой техники. С точки зрения потребительских товаров – сейчас бум национальных российских брендов, которые успешно заместили ушедшие западные компании.
С точки зрения производства продовольствия – нам интересны партнерства, которые бы упростили и облегчили доступ наших производителей на экспортные рынки. Дальний Восток – это естественный производитель экологичного, чистого питания для стран Азии, начиная от сои, заканчивая мясом, молоком, даже водой. Но выйти с такими товарами без локального партнера очень сложно. Здесь, я думаю, как раз хорошие перспективы для взаимодействия.
Нам нужно обновлять флот. В том количестве, в котором он нам нужен, в эти сроки у нас нет стольких верфей для его постройки, поэтому судостроение – это естественная область для взаимодействия.
Ну и в перспективе можно сотрудничать в мощной гонке в цифровых технологиях, в искусственном интеллекте. Я думаю, что возможна международная кооперация, где мы могли бы объединять усилия, в том числе для поддержки больших вычислений. Сейчас мы понимаем, что для этого нужны гигаватты дополнительной энергии. И иностранные инвестиции могли бы прийти, для того чтобы создавать дата-центры гигантских форматов для обслуживания евразийского макрорынка.
– С вашей точки зрения, каким будет ВЭФ через 10 лет, в 2035 г.? Вы говорили, что он миссию свою выполнил. Значит, нужна новая?
– Я думаю, что через 10 лет мы увидим успешное завершение глобальной трансформации. Завершится создание реального многополярного мира с вовлечением в решение мировых вопросов не только стран условного «золотого миллиарда», но и тех, которые сегодня называются Глобальным Югом, Глобальным Востоком. ВЭФ для этого идеальная площадка.
На ВЭФ ежегодно приезжают делегации почти из 70 стран. Но, я думаю, вот этот аспект работы, если хотите, евразийского Давоса, – он будет более ярко выражен. Это будет площадка, на которой встречаются представители еще большего количества стран.
Я думаю, что у ВЭФа появится отдельная, важная технологическая канва. Он по сути экономический форум, но сейчас экономика все больше зависит от технологий. Я имею в виду не только беспилотники и искусственный интеллект. Например, возьмите добычу полезных ископаемых с морского дна. Это потенциально революционная история, которая вскрывает на порядок более богатые залежи. Будет глобальная гонка за ресурсами из Мирового океана, а океанский фонд на Дальнем Востоке – наш.
Владивосток – это то место, где эти вопросы надо обсуждать, договариваться, формировать партнерство, задавать вектор развития. Принимать соответствующие, в том числе технологические, решения.
Сейчас мы создаем на острове Русский инновационно-научно-технологический центр. Первый корпус его будет открыт уже к этому ВЭФу. Он состоит из школы морской инженерии, IT-кампуса, школы биоинженерии, биомедицины. На острове Русский создается установка класса «мегасайенс», русский источник фотонов. Рассчитываю, что через 10 лет он будет уже центром не просто федерального, но и евроазиатского значения, который будет выдавать прорывные разработки, также питающие повестку ВЭФа в 2036 г.